И БОГ ИЗРАИЛЯ
1941
Нахман Крохмаль (1785-1840), основоположник философии еврейской истории, следовал за Джиамбатиста Вико (1668-1744), который во многих отношениях является отцом современной историософии.
Среди прочего Вико разделил всемирную историю на историю народов и историю Израиля —на том основании,
что первой и второй управляют разные законы.
Вико выводил критерий для такого разделения из двусторонней
природы Божественного Провидения. Оно
открывает себя народам, создавая их, так что течение их истории предопределяется дарованными им талантами
и качествами. Израилю же Божественное Провидение даровало свое непосредственное откровение,
так что единственная в своем роде история Израиля
должна быть понята с точки зрения Божественного вмешательства в нее.
Однако Крохмаль основывал свою теорию не на Боге, а на человеке. Каждый народ обладает ведущим
духовным качеством, которому подчинены все прочие его способности, —своим гением, в котором народ
видит своего "князя" или своего "бога" . Национальный дух расцветает, созревает и увядает. То же, что определяет
и ограничивает национальный дух, придает ему преходящий характер. Но это не касается Израиля. Израиль
начинает целостное, нераздельное духовное бытие, и поэтому сопротивляется и подымается после
каждого падения, как бы обретая новую силу. Народы творят идолов из своих высших способностей и таким
образом вынуждены покориться суду истории. Израиль знает только одного Бога, Вечного, и оттого ему открыта
тайна возрождения.
Другими словами: каждый народ возводит собственное " я " в абсолют и поклоняется себе самому. Израиль
обладает опытом абсолюта, который не тождествен ему самому и которым он никогда не сможет стать,—и почитает
этот абсолют как таковой. Или еще иначе: народы переживают абсолютное только через то, чем они являются;
Израиль может переживать абсолют только тогда и потому, что этот абсолют встречает его лицом к лицу.
Далее: быть ограниченным самим собой —значит быть приговоренным к смерти; жить ради безграничного
—значит освободиться от смерти. Самообоготворение народа тесно связано с его смертью. Когда национальный
дух деградирует и распадается и нация обращает свое лицо к ничтожному, а не к существованию, которое
включено в целое и выявляет абсолют, тогда нация
оказывается на пороге смерти.
Прямое почитание абсолюта без посредствующих звеньев —таков источник неумирающей жизни Израиля.
Это отделяет его историю от истории других народов.
Они завершают путь, предназначенный им во времени, но Израилю даруются все новые пути и обновленные
силы при условии, что его вера устояла и не нарушена его связь с абсолютом. Таким образом, история Израиля
содержит начало —не просто дополняющее, но также исправляющее историю народов.
Крохмаль взял великую идею из сокровищницы еврейской традиции и очертил ее концептуально, но он
не сделал из нее всех возможных, далеко идущих выводов, необходимых для понимания нашей истории и наших задач.
У ряда народов —у китайцев, евреев, греков —одинокие мыслители приходили к идее абсолюта как такового,
в его предельной метафизической чистоте, но на реальную жизнь их народа эти мысли не оказывали влияния.
Почитание абсолюта может стать жизненным принципом народа только тогда,когда сам народ его практикует, при-
том не в сфере абстрактного мышления, а в действительной жизни. Почитание народом абсолюта означает не метафизические
размышления, а религиозные события.
Крохмаль не останавливается на этом различии, так как он, будучи интеллектуалом, удовлетворяется интеллектуальным
актом, —но, если бы этого было достаточно, мы могли бы в своем воображении заменить народ
на Синае одним Моисеем, который переносит плоды своих созерцаний в Писание. Но такое представление —
неадекватная основа для разделения всемирной истории на две части. Израиль, в отличие от других наций, не
неадекватная основа для разделения всемирной истории на две части. Израиль, в отличие от других наций, не
возвел себя самого в ранг абсолюта именно потому, что в самом истоке своей истории он, как единый народ,
получил опыт Божественного. В этом заключается самая глубокая историческая проблема нашего народа.
С одной стороны, наша задача —не допускать, чтобы
наша природа ограничивала нас в нашем отношении
наша природа ограничивала нас в нашем отношении
к абсолюту, а с другой —наш долг поддерживать органический
и национальный характер этого отношения
и не допустить, чтобы живое Божество в нашей среде
превратилось в возвышенную идею.
В наше время в секуляризованной форме продолжается
борьба между национализмом, который отрицает
дух народа, и ассимиляцией, которая отрицает тело
народа. Преодоление этой дилеммы —быть может, труднейшая
из задач, стоявших когда-либо перед человеческой общностью.
Справедливо, что почитание абсолюта без обращения
к посредствующим лицам или идеям —источник вечной
жизни Израиля. Но мы, вплоть до наших дней, еще не
научились почитать абсолют через наше подлинное существование.
Эта задача сама по себе есть То, что сохранило
нас до настоящего времени —не ее разрешение, а
сама задача, которая пылает в нашей крови подобно пламени и не умрет никогда.
Крохмаль неустанно повторяет, что наше призвание —учить народы, учить их поклоняться абсолюту как таковому,
а не абсолютизировать национальные свойства.
И это правда: мы должны учить этому. Но как мы можем
учить тому, чему еще сами не научились? У народа
есть только одно средство указать на истинного Бога —это жизнь, протекающая в согласии с его волей.
До сих пор нашего существования хватало лишь
на то, чтобы сотрясать троны идолов, но не на то, чтобы
воздвигать трон Господень. Именно в силу этого наше
существование среди народов столь таинственно. Мы
претендуем на то, чтобы научить абсолюту, но в действительности
мы лишь говорим "нет" другим народам,
или, пожалуй, мы сами являем собою такое отрицание
и ничего больше. Вот почему мы стали кошмаром наций.
Вот почему каждая нация одержима желанием отделаться
от нас во времена, когда стремится возвести в абсолют
себя самое —и не только внутренне (как это было
с незапамятных времен), но и в практическом порядке.
Вот почему вплоть до сегодняшнего дня нам не позво-
Вот почему вплоть до сегодняшнего дня нам не позво-
лено воспарить над бездной и указать путь к спасению,
а нас засасывает водоворот жалкой обыденности.
Если каждый народ имеет в лице абсолютизированного
национального качества своего "князя", с точки
зрения мировой истории встает вопрос: признают ли и до
какой степени эти "цари" —выражаясь мифологически —"Царя царей" над собой. Или проще: в какой степени
нации признают и терпят общий и безусловный верховный
авторитет. С этой точки зрения следует подойти к
христианству как к проблеме мировой истории.
Христианство пришло к народам Запада из духовно-
го мира, в котором элементы, уцелевшие от распавшихся
великих религий Малой Азии и как бы свободно
парившие, сочетались с религиозной традицией и опытом
еврейского народа. Этот синтез так всесторонне преобразовал
еврейское вероучение, что оно получило возможность
достигнуть других народов и проникнуть
в них в качестве евангелия; религиозная задача самого
народа, однако, не присутствовала в этом процессе.
Даже когда нации одна за другой целиком обращались
в христианство, —не нации как таковые, а индивидуумы
вступали в "спасенный" мир, который был преддверием
чего-то, в будущем крайне далекого от идеи национальности.
Это устраняло задачу, поставленную перед народом
Израиля, которая состояла в том, чтобы сделать
мир царством Божиим. Она была замещена христианским
видоизменением движущих сил и событий истории, то
есть концепцией священной империи; и, хотя это снова и
снова соотносилось с задачей Израиля, в действительности
религиозные лозунги прикрывали провозглашение автономии "царей".
Но такая автономия была связана с авторитетом
\ церкви, стоящей вне и над нациями. Эта связь не была
четко определена. Папы стремились усилить ее, императоры
—ограничить, но, вопреки их маневрам, все еще
существовал авторитет, который мог умерять и умиротворять
тенденции к самопрославлению, и воля наций
к господству преодолевалась духовной властью в доста-
точной мере, чтобы не позволить "князьям" стать "богами".
Даже когда церковь начала распадаться и церкви,
установившиеся на территории, охваченной Реформацией,
попытались войти в соглашение с местными правителями,
в принципе влияние христианства, сохранившего
свои жизненные силы, не исчезло. Это можно проследить
в обычаях, укорененных в национальной жизни, еще
с большей очевидностью, чем в сводах международного
законодательства, источником которого также являлось
христианство. Хотя нравственные законы относились
к людям только как к индивидуумам, а не как к
членам нации, и сами нации вели свою жизнь независимо
от нравственного закона христианства, ярости и вражде
постоянно и эффективно противостояло нечто безымянное
и непреодолимое, но, несомненно, исходившее от христианства.
"Цари" могли время от времени вести себя как "боги",
но снова и снова наступал час, когда им приходилось
склонять свои головы перед Богом.
Если с этой точки зрения взглянуть на нашу собственнуюхристианства, ибо начались коренные перемены. Не случайно
в эту эпоху, когда техника достигла такого высокого
уровня развития, что географическое расстояние
между нациями уже не является серьезным препятствием
для конфликтов и, более того, инструментом в таких
конфликтах могут стать средства массового уничтожения,
—именно в эту эпоху, которая сделала возможным
такое техническое развитие, христианство как таковое,
равно как и его секулярные порождения, перестало
быть эффективным в качестве политического сверхнационального
авторитета. Трагикомическая история
так называемой Лиги наций недвусмысленно доказала,
что такого авторитета больше не существует. В эту эру
совершается нечто беспрецедентное: некоторые национальные
эгоизмы, которые прежде сдерживались христианством,
как общей и высшей правдой, освободили
себя не только от христианства, но и ото всех установлений.
В их глазах правда —всего лишь функция нации,
и "князь" провозглашает себя богом.
Почти за полстолетия до основания Лиги наций и через
два десятка лет после выхода книги Крохмаля человек,
переживавший с предельной остротой кризис христианства,
модернизировал теорию национальных "князей".
Это был Достоевский. В романе "Бесы", изображающем
так много явлений того времени (но в духовной
атмосфере, напоминающей, скорее, наш собственный
век), он выразил эту теорию любопытным образом. Ее
провозглашает не демонический герой романа, которому
она приписывается, а его бывший ученик, который восстал
против распада личности своего прежнего учителя
и пытается побудить его к самоочищению и самоусовершенствованию.
С этой целью он противополагает своему
учителю теорию, которой тот когда-то придерживался.
У каждой нации есть своя цель и свой собственный бог .
Этот бог. —"синтетическая личность" нации, которая
верит в него как в единственного истинного Бога. Каждый
народ верит, что он может победить и подчинить
себе всех других богов и все другие народы только с
помощью своего бога, верит, что он один обладает истиной,
безусловной и исключительной. Эта вера составляет
силу и историческое величие нации. Народ, который
утратил свою веру, —более не народ.
Все эти заявления полностью повторяют учение Крохмаля
о нациях с точки зрения языческого аспекта всемирной
истории. Но тут вторгается нечто очень странное.
Говорящий кидается в другую сторону; автор, который
вкладывает собственные слова в уста своего персонажа,
должно быть, сознавал это, но, вероятно, он не отдавал
себе отчета в далеко идущих следствиях из этих слов.
"Поскольку есть только одна правда, —говорит бывший
ученик, —только у одного народа может быть один истинный Бог".
Существует только одна правда! Достоевский, извлекая
это утверждение из глубины времен, как бы проти-
это утверждение из глубины времен, как бы проти-
вопоставляет его всему, что последовало потом, и таким
образом свидетельствует в пользу Бога и против "князей".
(Очевидно, эти слова —исповедание его собственной
веры и в то же время выражение его собственного
внутреннего конфликта.) Но его заключение, что
только одна нация может иметь истинного Бога —не
признавать его, не взывать к нему, а "иметь", —немедленно
ставит его свидетельство под сомнение. И когда, непосредственно
вслед за этим, он объявляет русский
народ единственным народом, который имеет единственного
истинного Бога (это также утверждалось в начале
диалога, равно как и то, что русский народ "спасет мир
и обновит его во имя нового Бога"), —становится
до ужаса ясно, что говорящий, а возможно, и сам автор,
создавший его, "шатается". И вполне убедительно,
что, когда этого человека спрашивают прямо, верит
ли он в Бога, он сначала бормочет, что он"верит в Россию','
затем —что он "верит в тело Христово",и наконец говорит,
что он "будет веровать в Бога".
Предельная жестокость автора, надо признать, не пощадившего
себя, звучит в отчаянной исповеди человека,
который, подобно фокуснику, на наших глазах жонглирует
непоколебимым представлением об одном истинном
Боге и растяжимым представлением о многих богах. (Это
фокусничество, ибо, если Бог существует, тогда "боги"—всего лишь метафора, а если существуют боги, тогда
метафорой становится Бог.) Достоевский определенно
был искренним христианином, но я знал много таких,
которые веруют в "Сына", будучи неспособными к
истинной вере в Отца. В одном из набросков Достоевского
к этому роману есть еще более общая формулировка.
Герой спрашивает: "Возможна ли вера для цивилизованных людей?"
Однако в этой части романа есть эпизод, в котором
Достоевский приближается к Крохмалю больше, чем
в своих общих заявлениях, так близко, что становится
возможным перекинуть мост через пропасть между этими
мыслями и утверждением об избранности русского
народа. Здесь он поясняет примерами, что он имеет
в виду, говоря о национальных богах.
"Греки обоготворили природу и оставили миру
свою религию, то есть философию и искусство. Рим
обоготворил государство и оставил государство современным
народам". Это в точности соответствует концепции
Крохмаля о "князьях", как доминирующих
"духовных способностях" наций, возведенных в абсолют,
и могло бы быть дословно извлечено из его книги.
Но параллельная характеристика греков и римлян
предшествует заявлению, относящемуся к евреям: "Евреи
жили одним лишь ожиданием пришествия истинного
Бога, и они дали истинного Бога миру". Это можно
истолковать только единственным образом. В то время
как греки, римляне и другие народы абсолютизировали
качества, которые сами по себе не абсолютны, и затем
передали их людям, евреи имели в душе абсолют как
таковой, истинного Бога, и этого Бога они передали
миру. Именно это же полагал Крохмаль, с той разницей,
что Достоевский, конечно, говорит о христианском боге.
Тем не менее, представляется невероятным, чтобы
Достоевский мог выдвинуть тезис Крохмаля целиком
или буквально. Как бы против его воли еврейская сторона
мировой истории вышла на первый план.
Кризис христианства коренится в том факте, что, хотя
мы, евреи, указали истинного Бога миру, мы совершили
это только в теории, а не посредством всей жизни
народа. В свете этого объяснения исчезают видимые
противоречия Достоевского. Он свидетельствует в нашу
пользу, но против своего желания; он не сознает, что
делает, и не приходит к соответствующим выводам.
Но изложенными выше моментами не исчерпывается
наш интерес к этой главе романа Достоевского. Герой
упрекает своего бывшего ученика, что он низводит
Бога до простого атрибута. "Напротив, —отвечает тот,—
я поднимаю народ до Бога". Эта реплика лишена смысла,
если не соотнести ее с "одним истинным Богом".
На какое-то мгновение она только обостряет противоречие
между признанием "одной правды" и прославлением
национальных "богов", —противоречие, которое соблазнительно
было бы приписать несовершенству композиции
романа, наименее законченного среди всех великих
романов Достоевского. Но вскоре становится очевидным,
что в этом отрывке как раз выражена попытка
преодолеть противоречие. Шатов хочет сказать, что именно
благодаря признанию существования национальных
"богов" и их соперничеству народ приближается к Богу
и поднимается до Бога. Это можно истолковать как указание
на путь, каким нации могут прийти к обладанию истинным Богом.
"Боги" —не что иное, как раздробленные, частичные,
крайне разнообразные, и в этом разнообразии исторически
необходимые отражения истинного Бога. Если
путь к нему действительно лежит через "богов", должен
пробить час, когда эти отражения померкнут и останется
только отражавшийся в них свет. Если исходить
из этой предпосылки Достоевского, здесь можно увидеть
одну из двух сторон мировой истории. Вопреки воле и
сознанию автора, другая из ее сторон представлена заявлением
о евреях, которые "передали истинного Бога
миру". На этой стороне истории нет и не может быть
каких бы то ни было отражений, пока народ остается
верен своему призванию. Достоевский пытается подвести
евреев под однородную мировую историю, но они
не поддаются приведению к этой категории. Несмотря
на всю их неверность, они стоят по другую сторону истории.
Чтобы углубиться в корень этой проблемы, мы должны
вернуться к временам задолго до Крохмаля.
вернуться к временам задолго до Крохмаля.
Наш вывод о том, что существуют две стороны всемирной
истории, берет начало еще у Амоса, который отвергает
предпосылку (Амос, 9,7), что, с точки зрения исто-
рии народов, мы полностью противоположны другим
нациям. Ибо другие народы, даже враждебные нам,
тоже знакомы с освободительным воздействием божества,
подобным тому, которое открывается в нашей истории.
Истинный Бог, которого мы признаем, является
освободителем народов. Но они его не знают; каждый
народ называет своего национального бога, который
определяет его миграции и территориальные притязания
именем идола и приписывает ему действия идолов. Израиль
отличен и отделен от этих народов тем, что он
"познан" своим Богом и познал его в процессе этого
контакта. Не Красное море, а только Синай принадлежит
другой стороне мировой истории.
Амос учит, что все народы, поскольку они существуют
в мировой истории, имеют отношение к истинному Богу,
только они не знают Его. Исайя дополняет это возвещение,
говоря, что они Его е щ е не знают, но узнают
Его, ибо Он сам научит народы их путям (Ис. 2, 3).
Единственное наше преимущество перед ними заключается
в том, что мы Его уже знаем. Но именно это "уже"
налагает на нас задачу предшествовать им "в славе Господней"
(Ис. 2, 5), так чтобы наша гора была приугото-
вана для паломничества всех. Две стороны истории
сливаются в один объединенный Божий мир.
Миха, по-видимому, ученик Исайи, не соглашается
с этим объяснением. Он заменяет призыв предшествовать
народам более тягостным возвещением, в котором
национальный партикуляризм пробивается сквозь национальный
универсализм. Ибо он говорит, что даже когда
все народы соберутся на святой горе, каждый будет ходить, как и раньше, во имя своего"бога", в то время как мы будем ходить "во имя Господа нашего Бога".
Даже "при конце дней" две стороны всемирной истории будут разделены "навсегда"
(Мих.4,5).
Амос, согласно Михе, имеет в виду, что народы зовут своими богами бледные образы истинного Бога, жалкие образы с лживыми именами.
Придет день, пророчествует Исайя, когда народы соберутся "на горе в доме
Господнем", на Синае наций, и получат Тору от Него
Самого, от Бога, которого они так плохо воображали
и неверно именовали; когда он сотворит мир меж ними
и поведет их к великому миру всего человечества.
Но хотя все народы научатся путям Господним, хотя они
получат Тору и будут ведомы к миру, прежние образы
и имена останутся.
Согласно Михе, нет спасения народам.
Стих Михи, выбранный Крохмалем в качестве эпиграфа,
является исходным моментом для учения Даниэля о "князьях" и всего, что с этим учением связано.
Согласно Даниэлю, народы не направляются в процессе мировой
истории самим истинным Богом, но каждого ведет его собственный представитель от Бога.
В результате деяния Бога на благо этих народов затемнены и Он
обнаруживает себя в лучшем случае как Творец, но уже не как Господь истории народов.
Народы действуют самостоятельно;
даже князья —теперь только "ведущие духовные свойства нации" (Крохмаль), "синтетические национальные личности" (Достоевский).
Таким образом, они являются теми силами, которые вырастают
внутри наций и управляют их жизнью.
И у любого народа нет иного пути к спасению, говорит Достоевский,
как только побеждать с помощью своего "бога" и подчинять себе других богов и другие народы.
Это дает нам более полный взгляд на нашу задачу в мировой истории.
Нам необходимо углубиться в прошлое, минуя учение Даниэля о князьях и даже более
раннее учение Михи о непреходящем идолопоклонстве
народов, пока мы не достигнем генеральной линии мысли, которая ведет от Амоса к Исайе.
Если национальные боги —это только частичные и несовершенные отражения
истинного Бога, то именно благодаря этим отражениям
народы обретут Его. Они "потянутся" "на гору, в дом Господень", —но оставаясь самими собой. Каждый является тем, что он есть, но его национальный характер,
который раньше казался плотной и непроницаемой целостностью, теперь существует только в отношении к Тому, Кто светится сквозь него, как сквозь чистое
стекло.
То, что раньше представлялось абсолютом, обнаруживает себя как относительное в свете единого великого абсолюта.
Но если это так, в чем же смысл задачи, которую Крохмаль предназначал нам: учить народы "безусловной вере"?
Это означает две вещи, которые по необходимости связаны друг с другом, так что одна отдельно от другой привела бы к ложному и даже роковому результату.
Первое:
доказать, что то, что обманчиво принимается за абсолют, только относительно;
второе:
указать на истинный абсолют и тем продемонстрировать разницу между ним и всем относительным.
Первая задача по своей природе связана с областью интеллекта: это исследование, анализ, критика.
Вторая задача по своей природе выходит за рамки интеллекта, ибо разум никогда не в состоянии постичь абсолют в мере, достаточной для того, чтобы показать разницу между ним и всем относительным.
Во всяком случае, невозможно у к а з а т ь на истинный абсолют, абсолют как таковой
в умопостигаемых понятиях.
Истинный абсолют может быть показан только как Бог; то есть, хотя для нашего мышления это абсолют, он определяется как таковой только в терминах личности, или, если прибегнуть к парадоксудолько в терминах абсолютной личности,
которая обращается к нам, к тебе и ко мне лично и не говорит тебе и мне:
"Я "Бог", но: "Я твой Бог", "Ходи передо Мной..." (Бытие, 17, 1).
В той или иной форме такое требование, такая заповедь следует всегда.
Не может быть откровения без заповеди.
Даже когда Тот, Кто обращается к нам, говорит нам о Себе, Он в действительности говорит о нас. То, что Он говорит о Себе, не имеет отношения к Его собственному
бытию, но мотивирует и разъясняет Его требования к нам.
Обращаясь к нам, Он вносит в человеческую жизнь различения между тем, что пристало, и тем, что не пристало человеку. Не переставая быть абсолютом,
то есть силой, которую нельзя отождествлять ни с каким свойством, доступным человеческому разумению, Он различает между правдой и ложью, праведностью и неправедностью.
Он побуждает нас произвести различение в сфере нашей жизни, подобно тому, как Он, в сфере,созданной им природы, отделил свет от тьмы.
Наша собственная жизнь является, таким образом, единственной областью, в которой и посредством которой мы можем указать на Него.
Но тайна нации в том и состоит, что только в национальной целостности и через нее это различение может быть воплощено в полноту жизни.
Хотя нечто от праведности может проявляться и в жизни
индивидуума, сама праведность может полно обнаружиться
только в структурах народной жизни. В этих
структурах праведность осуществляется внутри разнообразных
групп народа, а направленная вовне —в области
отношений народа к другим нациям, то есть осуществляется
в разнообразии всевозможных социальных,
политических и исторических ситуаций. Только жизнь может продемонстрировать абсолют, это должна быть жизнь всего народа.
Оратор в романе Достоевского заявляет, что его
учение подымает народ до Бога, и говорит: "Народ —это тело Божье". Это христианский мистицизм, но мы тоже можем сказать, что только народ может как бы
представлять Бога, так сказать, телесно, то есть в своей
собственной жизни, —что Бог и имел в виду, создаваячеловека по своему "образу".
"Целем", образ Божий, по которому человек создан как индивидуальность,
или, точнее, как мужчина и женщина, —это контур, абрис, который может быть заполнен только народом.
Ибо "целем" откроется глазам человечества только через множественность индивидуальностей, разнообразных по характеру и намерениям, однако живущих в гармонии друг с другом, —человеческий круг вокруг Божественного центра.
Народ как таковой имеет естественные предпосылки для подобного дела; его члены имеют достаточно много общего, чтобы воспользоваться своими взаимоотношени-
ями как отправной точкой для осуществления идеи общности человечества, то есть для того, чтобы вести жизнь, угодную Богу, и таким образом показать Его всем.
Индивидуальная мысль может расшатать троны,
узурпированные интеллектуальными моделями, троны,
которые каждая нация по очереди объявляет мировыми
тронами; но ничто, кроме жизни народа, не может воздвигнуть
трон истинного Царя.
Как я указал, каждая часть этой двусторонней задачи зависит от другой ее
части и без нее не может осуществить благоденствие человечества.
Если не сотрясти фальшивые троны, попытка утвердить
истинный трон —коль скоро такая попытка сделана
—не будет правильно понята.
К ней отнесутся как к вызову народам и поэтому ей воспротивятся и извратят ее.
А если не будет предпринято заметных усилий для поддержки истинного трона, обнаженные и откровенные национальные эгоизмы захватят те самые троны,
которые они очистили от интеллектуальных моделей.
И тогда не характер или идея народа, а просто его техническая мощь будет объявлена абсолютом.
Если у Израиля есть историческая задача (на основании того исторического
факта, что он избран для служения истинному Богу),—она не может быть не чем иным, как этой двусторонней целостной задачей.
В эпоху, последовавшую за тем, как мы вошли в историю западных народов, вместе с провозглашением "равных прав" для индивидуумов наше мышление играло
главную роль в установлении относительности мнимых абсолютов.
Идеология, идеалы и идеи были подвергнуты сначала социологическому, а затем психологическому анализу и критике.
Маркс разглядел в них просто вспомогательные конструкции в процессе производства
и в классовой борьбе, им порожденной.
Фрейд разоблачил их как сублимации сексуального либидо и конфигурации
сил, стремящихся подавить его.
Однако в этих блестящих исследованиях безудержные методологические крайности подвергли "редукции" самое истину, независимый духовный элемент идей.
Внутри идеальной субстанции не было произведено никаких различений и разграничений; вместо этого она была с порога отвергнута, так что ее независимый
характер вообще перестал признаваться.
Реальным наследством, оставшимся после процесса критики, оказалась
социальная динамика, базирующаяся на экономике,
в первом случае, и на индивидуальности, определяющейся
своими инстинктами, во втором,—на этих двух проявлениях монистически центрированной человеческой системы.
Но человек не может быть обращен в монистическую систему, пока он не отречется от своей действительной целостности, пока он не сотрет в себе всякий отпечаток абсолюта, или, говоря на языке религии, пока не изгладится в нем образ Божий.
Человек —не образ, но он создан по образу Божию, и, если образ
сотрется, человек перестанет быть человеком.
В течение прошлого века еврей с его способностью
к критике, сотрясая кумиры, не приготовил места Богу,
а постарался самого Бога лишить какого бы то ни было
места на земле. Вместо того чтобы научить народы служить правде, а не фикции, еврейский критицизм внес свою лепту в то, чтобы заклеймить идею правды как непозволительную фикцию.
Аналитический критицизм еврейской мысли не случайно принял такой оборот.
Маркс и Фрейд не сознавали, в какой зависимости находились они от господствующего духовного течения в современном еврействе, которое не может постичь действительное существование абсолюта. Это не только проблема "цивилизованного человека", относительно которого герой Достоевского выразил сомнение, может ли он вообще веровать.
Здесь прервалась органическая связь, связь, которая образует другую сторону мировой
истории.
Как же быть со второй половиной задачи, которая может быть исполнена только через жизнь народа?
После
стольких веков исторического подавления, когда нам не
разрешали установить наш собственный национальный
порядок, история как бы даровала нам передышку,
во время которой мы на клочке земли, малом, но нашем,
обрели право сказать наше собственное, относительно
независимое слово о том, как мы хотим жить
друг с другом и с нашими соседями.
И что произошло в течение этой передышки?
Много —и мало.
Поколения, которые открыли в себе и развернули невиданную творческую силу и мощь, сделали прописи социальной справедливости краеугольным камнем своей работы.
Но островки, ими созданные, смываются волнами жизни, которая не признает прописей, жизни, лишенной общего духа, общего порядка.
Мы еще не знаем, что окажется сильнее —волны или островки суши.
А что касается этих прописей, фундаментальных самих по себе, —глубоко характерно,
что они не являются откликом на заповеди.
Опять-таки к абсолюту относятся как к анахронизму, как к реакционной концепции, отдающей несвободой мысли. Достаточно сравнить наши национальные сочинения, которые послужили теоретическими основаниями для поселений в Палестине, с книгой Крохмаля.
Ибо даже те мыслители, которые не хотят, чтобы мы были "как все народы",
заменяют дух абсолюта, дух, которому Израиль служит, "духом Израиля", который едва ли отличается по своему типу от "духов" других народов —иначе говоря, от "князя" среди других "князей".
Мы надеялись, что ишув станет центром еврейского народа; но что является центром этого "центра"?
КРО́ХМАЛЬ Нахман (Nachman Krochmal; акроним רַנַ"ק, Ранак; 1785, Броды, Галиция, — 1840, Тернополь), философ, историк, один из основоположников иудаистики (см. наука о еврействе) и ведущих мыслителей Хаскалы в Восточной Европе.
רנ"ק
Нахман ха-Коэн Крохмал родился 17 февраля 1785 года в городе Броды в Галиции в семье богатого купца Р. Шалома Крочмальника, женился на Саре в 14 лет и переехал жить к своему богатому тестю в город Зулкава под Львовом. В Торе и Талмуде он также изучал еврейскую философию, особенно письма Маймонида и Авраама ибн Эзры, а также начал изучать мысли эпохи Просвещения Моисея Мендельсона и Шломо Маймона, «комментарий» Мендельсона к Библии и вопросы «Сборника». В юности он встречался с образованными Менахемом Менделем Лапиным и Иегудой Лейб Бен-Зеев, представителями постберлинского переходного поколения, и находился под их влиянием; Еще больше на него повлиял галицкий ученый по имени Барух Цви Неу, и в своей библиотеке он читал книги на иврите и общеобразовательные книги. Он выучил немецкий язык, чтобы на языке оригинала изучить учения нееврейских философов, особенно Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Позже он изучал другие языки, включая латынь, французский, арабский и сирийский. Его ученики свидетельствовали, что его образование было всесторонним, И в религиозной, и в общей израильской литературе, включая поэзию на иврите, и в общей научной литературе того времени. В 1808 году он приехал во Львов, чтобы вылечиться от болезни, и там он встретил Шломо Иегуду Рапапорта (Шира), который впоследствии стал его другом-студентом. «И в зарубежных учебниках истории. В 1814 году он начал собирать вокруг себя кружок учеников; он гулял с ними по детским садам в районе Золкавы и разговаривал с ними о философии, истории и литературе с Израилем. Израиль, в том числе Шир (хотя между ними на протяжении многих лет существовала напряженность), Йосеф Перл, Меир Халеви Латрис, Риваль, Шимшон Блох, Яаков Шмуэль Бик, Р. Цви Хирш Хают и другие, а также его сын Авраам Крохмель. Традиционные противники образования выступили против Рен » К. и его мысль (мысль, которая включала умеренную критику Библии и критику Талмуда), хотя он соблюдал мицвы. После его посещения караимских городов в Галиции в 1815 году и переписки с караимскими мудрецами последователи, ставшие караимами, оклеветали его, и он написал «письмо с извинениями» и отказался от всего, что ему приписывали. После смерти тестя он начал зарабатывать на жизнь торговлей и сбором налогов, а затем бухгалтерией. Он также занимался общественными делами, был «главой толпы» и кормильцем в Жолкаве и даже помогал освобождать молодых образованных людей от военной службы. По просьбам своих учеников и друзей он начал писать свою книгу с середины 1920-х годов, которую он первоначально назвал «вратами чистой веры». В 1836 году он переехал в Броды на два года, а в 1838 году, когда его болезнь обострилась, он переехал с дочерью в Тернополь. Он отказался от предложения стать раввином Берлина. В последние годы он добился значительных успехов в подготовке своей книги, но не завершил ее; Перед смертью он попросил известного ученого Йом Това Липмана Зунца отредактировать и опубликовать ее, и действительно, книга была издана Зунцем в 1851 году под названием « Смущенный учитель того времени ». Р.НК умер в июле 1840 г. и был похоронен в Тернополе. У него остались две дочери и два сына. Его старший сын Иосиф обратился в христианство; Его второй сын, Авраам (Авн Крохмаль), был самостоятельным мыслителем, позже одним из участников журнала «Гехалуц».
Нахман ха-Коэн Крохмал родился 17 февраля 1785 года в городе Броды в Галиции в семье богатого купца Р. Шалома Крочмальника, женился на Саре в 14 лет и переехал жить к своему богатому тестю в город Зулкава под Львовом. В Торе и Талмуде он также изучал еврейскую философию, особенно письма Маймонида и Авраама ибн Эзры, а также начал изучать мысли эпохи Просвещения Моисея Мендельсона и Шломо Маймона, «комментарий» Мендельсона к Библии и вопросы «Сборника». В юности он встречался с образованными Менахемом Менделем Лапиным и Иегудой Лейб Бен-Зеев, представителями постберлинского переходного поколения, и находился под их влиянием; Еще больше на него повлиял галицкий ученый по имени Барух Цви Неу, и в своей библиотеке он читал книги на иврите и общеобразовательные книги. Он выучил немецкий язык, чтобы на языке оригинала изучить учения нееврейских философов, особенно Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Позже он изучал другие языки, включая латынь, французский, арабский и сирийский. Его ученики свидетельствовали, что его образование было всесторонним, И в религиозной, и в общей израильской литературе, включая поэзию на иврите, и в общей научной литературе того времени. В 1808 году он приехал во Львов, чтобы вылечиться от болезни, и там он встретил Шломо Иегуду Рапапорта (Шира), который впоследствии стал его другом-студентом. «И в зарубежных учебниках истории. В 1814 году он начал собирать вокруг себя кружок учеников; он гулял с ними по детским садам в районе Золкавы и разговаривал с ними о философии, истории и литературе с Израилем. Израиль, в том числе Шир (хотя между ними на протяжении многих лет существовала напряженность), Йосеф Перл, Меир Халеви Латрис, Риваль, Шимшон Блох, Яаков Шмуэль Бик, Р. Цви Хирш Хают и другие, а также его сын Авраам Крохмель. Традиционные противники образования выступили против Рен » К. и его мысль (мысль, которая включала умеренную критику Библии и критику Талмуда), хотя он соблюдал мицвы. После его посещения караимских городов в Галиции в 1815 году и переписки с караимскими мудрецами последователи, ставшие караимами, оклеветали его, и он написал «письмо с извинениями» и отказался от всего, что ему приписывали. После смерти тестя он начал зарабатывать на жизнь торговлей и сбором налогов, а затем бухгалтерией. Он также занимался общественными делами, был «главой толпы» и кормильцем в Жолкаве и даже помогал освобождать молодых образованных людей от военной службы. По просьбам своих учеников и друзей он начал писать свою книгу с середины 1920-х годов, которую он первоначально назвал «вратами чистой веры». В 1836 году он переехал в Броды на два года, а в 1838 году, когда его болезнь обострилась, он переехал с дочерью в Тернополь. Он отказался от предложения стать раввином Берлина. В последние годы он добился значительных успехов в подготовке своей книги, но не завершил ее; Перед смертью он попросил известного ученого Йом Това Липмана Зунца отредактировать и опубликовать ее, и действительно, книга была издана Зунцем в 1851 году под названием « Смущенный учитель того времени ». Р.НК умер в июле 1840 г. и был похоронен в Тернополе. У него остались две дочери и два сына. Его старший сын Иосиф обратился в христианство; Его второй сын, Авраам (Авн Крохмаль), был самостоятельным мыслителем, позже одним из участников журнала «Гехалуц».
[
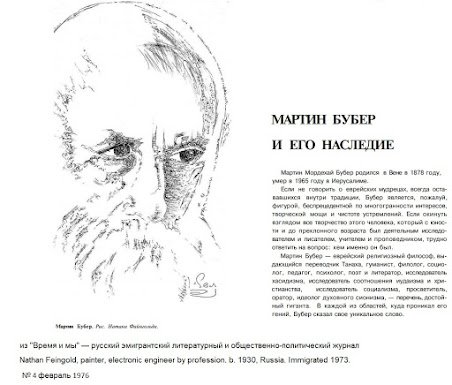
Комментариев нет:
Отправить комментарий